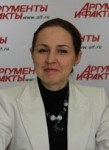Российское готическое общество
Общество преступников или "народ-победитель"?
Пейзаж нашей истории и памяти покрыт "белыми пятнами". Мы так привыкли к этому выражению, что давно не задумываемся над его значением. И все-таки что это за "пятна", действительно ли они "белые" и что они скрывают?
"Белые пятна" - словосочетание, от которого веет романтикой дальних странствий и оптимизмом героических первопроходцев, - прижилось в нашей публицистике: у нас так принято называть массовые убийства, преступления против человечества. "Белые пятна" скрывают материк советского прошлого, имя которому - ГУЛАГ. Что говорит об обществе и об отношении к истории тот факт, что такие "пятна" считаются "белыми"?
В нынешней России вопрос о том, как преступления советской власти, размах которых был бы невозможен без соучастия всего общества, влияют на настоящее и будущее этой страны, не вызывает бурных общественных дискуссий и политических разногласий. Мысль о нашей ответственности за прошлое и нашей исторической вине не звучит с телеэкранов и не выплескивается на первые полосы газет. Об этом не говорят политики, не спорят интеллектуалы. Иными словами, прошлое всерьез не интересует никого: из памяти о советском времени изгнана политика, и в этом - важная черта уникального российского отношения к своей страшной и позорной истории.
Разительный контраст с нашим неполитизированным отношением к советскому прошлому проступает особенно отчетливо при сравнении с европейскими странами. Нацизм был признан преступным режимом. Был принят целый ряд политических мер, которые способствовали "денацификации" Германии. В сегодняшней Европе, где трудная "проработка прошлого" прошла разные этапы и потребовала длительного общественного внимания, вопрос об исторической вине и ответственности за фашизм, Холокост, Третий рейх, Виши - это важная политическая тема, находящая свое выражение как в процессах над виновными в преступлениях против человечества, так и в публичных дебатах, острота которых ничуть не уменьшается по мере того, как уходят из жизни современники событий.
Несмотря на многие миллионы жертв советского строя, коммунистическая партия так и не была признана преступной организацией, советская власть - преступным режимом, а революция 1991 года не только не привела к процессам над палачами, но не смогла даже недвусмысленно осудить их преступления.
Как удалось достичь столь единодушного "национального примирения"? Может быть, причина, по которой у пострадавших от советских репрессий не возникло особого самосознания, в том, что, в отличие от подвергнутых геноциду народов, у жертв советских репрессий отсутствовало ощущение обреченности, неизбежности: а вдруг меня не коснется, а вдруг трагедия деда, отца, брата обойдет меня стороной? Конечно, репрессии против "врагов народа и членов их семей" были эффективным инструментом уничтожения особого самосознания жертв. Слишком опасной была память о ГУЛАГе, слишком силен был страх, передаваемый в семье. Мы стремились растворить, задушить то, что было страшно воспринимать иначе, чем личную трагедию, подменить ее для себя и для детей официальной разрешенной историей - историей, ничего общего не имевшей с семейным прошлым. Мы стремились вернуться к "нормальной жизни" и обеспечить ее детям любой ценой. Поэтому из нас не выросло борцов, и поэтому мы не можем не ощущать своей доли ответственности.
Геноцид против еврейского народа и преступления немцев против человечества во Второй мировой войне заставили выдающегося немецкого историка Р.Козеллека задаться вопросом о том, не являются ли немцы "нацией преступников". Не пора ли нам найти в себе силы признать свою ответственность и вину, разорвать тенета беспамятства и молчания, продолжающие делать нас сообщниками преступного режима?
Попробуем задуматься о причинах российского беспамятства и о его последствиях, о том, почему в России не возникло интеллектуальной или политической силы, способной противостоять исторической амнезии. В поисках ответа на этот вопрос невозможно пройти мимо идеологии российской демократической интеллигенции - идеализации Запада, крайне популярной в обществе в конце 80-х - начале 90-х гг. Идеализируемая западная демократия превратилась тогда в образ желанного будущего и приобрела силу нового социального проекта, создавая выход из исторического тупика, в который завел общество социализм. Российским западникам конца 80-х - начала 90-х гг. казалось, что условием превращения Запада с его демократией, рынком, свободами, правами, но также и с моральными и эстетическими достоинствами в российское будущее является возвращение "на магистральный путь мировой истории", "в человечество", что позволит поскорее "оставить в прошлом все то, что делало Россию культурным гетто". Восприятие советского прошлого как безвременья, "распада связи времен", отказ от чувства ответственности за него позволило российским демократам почувствовать себя вправе начать создавать с нуля "новую Россию", как если бы советское прошлое кануло в небытие.
Главным гарантом прибытия России в счастливое настоящее Запада была вера в прогресс: без уверенности в том, что все общества проходят один и тот же путь, ведущий в светлое будущее, путешествие в Запад становилось весьма проблематичным. Для того чтобы открыть дорогу России в Запад, советское прошлое должно было исчезнуть в пучине забвения, ибо сам факт его существования разрушал веру в прогресс. Именно Аушвиц и ГУЛАГ в 70-е гг. подорвали прогрессистскую уверенность западной мысли в будущем, поместив на горизонте грядущего вместо радужных надежд зияющую катастрофу. Память о советском прошлом должна была сгинуть в недрах западнических иллюзий, чтобы обеспечить россиянам - пусть ненадолго - уверенность в наступлении в России лучезарного западного завтра.
В результате осуждение сталинизма оказалось краткосрочной политической акцией, полностью подчиненной политической конъюнктуре конца 1980-х гг. За ним не последовало общественных дебатов, способных призвать каждого из нас задуматься о своей собственной - личной и семейной - связи с самым кровожадным режимом в истории человечества. Демократическая интеллигенция - "архитектор перестройки" - не стала лидером такого движения. Вызвав из небытия тени советского прошлого, российское общество равнодушно отвернулось от тяжкого наследства, предоставив "мертвым хоронить своих мертвецов". Стоит ли удивляться, что число желающих представить сталинизм достойным политическим ориентиром, а историю России - чередой славных побед великой державы, которой потомки могут только гордиться, растет с каждым днем?
В забвении советского прошлого и в искажении памяти о нем особую роль играет сталинский миф о войне, который, как показало празднование 60-летия Победы, живет и побеждает в нашем сознании. Согласно этому мифу, который историки часто называют "мифом основания" советского государства, война создала беспрецедентный и предельный опыт страдания народа, став эталоном подлинности переживания в советской и постсоветской культуре.
Никто не станет преуменьшать значение пережитого в годы войны, но не следует забывать и о другом: миф о войне должен был противопоставить придуманную "мирную повседневность" реальным ужасам войны, и в этом состояла его важнейшая задача. Ибо можно ли представить как мирную повседневность красный террор Гражданской войны, открывшей, по словам Бродского, эру "непрерывного террора", гибель миллионов "раскулаченных" крестьян, голод на Украине, массовые репрессии Большого террора до и после Великой Отечественной войны, которая сама была важной вехой истории террора? Пожалуй, патриотическая борьба с врагом гораздо легче вписывалась в привычные представления о войне, чем советский мир - в представления о мире. "Мирные будни" ленинско-сталинских репрессий ретроспективно были противопоставлены реальности войны. Кто из нас, увидев кадры мирного летнего утра в довоенном антураже на экране, мог хоть на минуту усомниться в том, что это - фильм о войне? Но в скольких семьях ночью, накануне этого самого "мирного июньского утра", или в ночи предшествующих двадцати лет советской власти и последующих десяти не "фашисткие захватчики", а соотечественники арестовали, выслали, убили ни в чем не повинных людей? Великая Отечественная война вобрала в себя ожидания, которые кажутся несовместимыми с "мирной повседневностью" и создала возможность придать неоправданным страданиям миллионов характер осмысленной жертвы. Миф о войне канализировал в "войну" весь ужас и "внесистемность" "мирного советского времени", позволив, по словам Шостаковича, людям "скорбеть и плакать, когда хотели". Миф о войне был призван скрыть истинную причину трагедии, которую переживали люди под именем советской власти.
Ибо миф о войне возник как миф-заградитель ГУЛАГа. "Плавильный котел" мифа о войне был призван объединить разорванное террором общество против общего врага и превратить сокрытие преступления в подлинную основу "новой общности людей - советского народа". Вражеское вторжение помогало легитимизировать террор - реальный внешний враг позволял задним числом оправдать репрессии, представив их как превентивную борьбу с агрессией.
Главная функция мифа о войне, которую он продолжает успешно выполнять и по сей день, - вселять в души наших соотечественников непоколебимую уверенность в том, что ГУЛАГ был всего лишь незначительным эпизодом, иногда досадно торчащим из-за могучей спины "воина-победителя". Победоносная война с фашизмом позволяет представить все советское прошлое как славный период российской имперской истории. Миф о войне мешает понять, что война - лишь элемент истории ГУЛАГа, неотъемлемая часть этой истории. Он мешает задуматься о том, почему применительно к Германии война неотделима от осуждения преступного режима, а применительно к СССР вытесняет всякую мысль о природе общества, в котором жил, сражался и снова жил "народ-победитель".
Неизбывное прошлое
Сегодня очевидно, что массовое насилие, пережитое в первой половине ХХ в., стало формирующим опытом не только для современников, но и для их потомков. Вероятно, последствия травматического опыта "непрерывного террора" для россиян могут оказаться тем более значимыми, что зверства советской власти, так до сих пор и не ставшие предметом последовательной моральной оценки, вплелись в ткань истории трех поколений "советских людей". Перверсии - психологические, нравственные и социальные, вызванные этим опытом, - нам еще предстоит по-настоящему оценить. Совершенно очевидно также, что никто не в состоянии сказать, на сколько поколений распространяется этот опыт. Тем более никто не станет утверждать, что достаточно просто сделать вид, что его не было, чтобы оградить себя от его последствий.
Ясно лишь, что прошлое не проходит. Весь вопрос состоит в том, какое направление примет эта работа памяти. Приведет ли она к осознанию, что на нас лежит ответственность за то, чтобы нравственно пережить трагедию и позор прошлого, или же российское беспамятство, которое несводимо ни к отсутствию информации, ни даже к отсутствию интереса, сделает для юношества образ террора заманчивым и романтическим?
Мы уже сейчас являемся свидетелями высокой популярности сюжетов, связанных с репрессиями. В любом книжном магазине с обложек на нас глядят жутковато стилизованные современными дизайнерами портреты деятелей сталинских поры, чья жизнь закончилась в застенках. На эти триллеры, предельно далекие от попытки хоть сколько-нибудь серьезно осмыслить прошлое, есть очевидный массовый спрос. Может быть, как бы мы ни избегали смотреть в глаза своему прошлому, оно не желает исчезнуть и поэтому за ним так хочется подсматривать исподтишка? Не является ли этот интерес к подглядыванию за эпохой террора признаком садистского вуайеризма, распространяющегося среди российской публики? Или образ преступления притягивает к себе нераскаявшихся потомков, заставляя их пытаться вновь и вновь, как в кошмарном сне, переживать содеянное родителями, осудить которых у них не хватило мужества?
Распространенное представление среди историков советского общества состоит в том, что до тех пор, пока историки не готовы "выстроить полную, всестороннюю", объективную картину советского прошлого, опирающуюся на последние достижения исторической науки, не стоит и беспокоить общество - все равно серьезной дискуссии не получится. Конечно, нелепо отрицать значимость точного воссоздания фактов и их всестороннего осмысления. Но если история ГУЛАГа будет скрупулезно восстановлена только затем, чтобы стать "полигоном" для проверки "объективных научных концепций", то это будет, возможно, еще более драматично, чем современное забвение. Ведь то, что мы знаем о прошлом, и то, как мы оцениваем прошлое, передается отнюдь не только с помощью "фактов" и "научных интерпретаций". Вспоминая, мы передаем эмоции. А передача эмоций, в свою очередь, есть важнейший способ передачи индивидуальной памяти.
То, с каким выражением нам рассказываются подробности семейной истории - дрожит голос, сами собой текут слезы по бабушкиному лицу, или невысказанное просто заставляет стиснуть руки, и голос прерывается, и тогда прекращается "повествование", "интерпретации" и даже образы, - остается только память о невыразимой боли и отчаянии.
Страх, немотивированная "бессмысленная" агрессия, опыт унижений, отсутствие чувства собственного достоинства, цинизм, жестокость, бесчестность откладываются в памяти, передаются в словах, жестах, взглядах и формируют наш образ истории и самих себя.
Эти эмоции и есть то главное, что мы запоминаем, то, что окрашивает нашу память, то, что непосредственно и живо приходит к нам из прошлого, то, что способно по-настоящему пробудить в нас переживание и понимание истории, позволить приобщиться к ней. Их может донести не только личное общение, но и художественное произведение, которое тоже в состоянии заставить нас ощутить чужое волнение, передать чужие чувства. Эти чувства столь же важны для нашего восприятия истории, как краска для рисунка. Все остальное - "интерпретации", "повествование", "факты" - лишь бледная тень этих навсегда врезающихся в память посланий. Они подсказывают нам "интерпретации", помогают отбирать "факты" и строить гипотезы. От них зависит наше видение истории, потому что с ними передаются ценности, потому что они являются основой для передачи индивидуальной памяти.
Убежищем памяти о советском терроре - выброшенной за пределы официальной истории, часто скрытой даже от членов семьи - была индивидуальная память. Она передавалась - и продолжает передаваться - как индивидуальное, неосмысленное, неотрефлектированное, не полностью и не до конца пережитое эмоциональное послание, идущее к нам из прошлого, послание, которое получают и будут продолжать получать миллионы россиян. Это память насилия, зверств, злодеяний, соучастия в преступлениях, страданий и страха. Тайная память, которую скрывает от себя каждый, но с последствиями которой приходится иметь дело в масштабах всего общества. Итак, вытесненная индивидуальная, личная память миллионов, исподволь деформирующая и уродующая российское настоящее.
Готическое общество
Как определить политический режим, который существует сегодня в России? Можно ли называть демократическим строй, при котором большинство населения поддерживает восстановление однопартийной политической системы или, во всяком случае, уж никак не сопротивляется ему? И на каком основании не считать такой режим демократическим?
Критики демократии неоднократно отмечали, что и фашизм, и коммунизм были демократическими режимами, обеспечивавшими доступ к управлению государством и обществом выходцам из социальных низов, подчеркивали, что в демократическом устройстве заложен принцип его саморазрушения и перерождения. И при коммунистическом, и при фашистском режиме народовластие было ощутимо дополнено прямой и непосредственной материальной выгодой "широких масс", основанной на глобальном переделе собственности. Небывалый массовый идеологический успех обоих режимов трудно не связать так же с тем фактом, что предлагаемые "народу" идеи и ценности формировались на основе распространенных представлений и находили, несмотря на огромное количество жертв среди самих демократических слоев населения (например, крестьянства в Советской России), глубокий отклик в массах.
Не менее важен тот факт, что и фашизм, и сталинизм могли сохраняться в памяти "широких масс" в виде мифа о золотом веке. Но если переосмысление прошлого в Германии, где сегодня преобладает крайне критичное отношение к фашизму, а политкорректный дискурс исключает открытую ностальгию о нацистском периоде, значительно снизило привлекательность фашизма, то в России, где никто - ни мировая общественность, ни собственные интеллектуалы и политики - не пытается навязать "постсоветским массам" "моральное чувство", стоит ли удивляться тому, что, по данным последних социологических опросов, более 50% российской молодежи считает, что Сталин "сделал больше хорошего, чем плохого"?
Тема преемственности тоталитаризма и демократии остро поставлена в работах итальянского философа Дж.Агамбена. Он показывает, что концентрационный лагерь остается и сегодня не эпифеноменом, а структурообразующим элементом современного демократического общества: "Лагерь <...> является скрытой матрицей политики, при которой мы продолжаем жить и которую мы должны приучиться распознавать, во всех ее метаморфозах, в зонах ожидания в наших аэропортах, так же как и в некоторых предместьях наших городов".
Аушвиц и ГУЛАГ вызвали глобальный кризис того цивилизационного проекта, который лег в основу европейской демократии. Этот кризис выразился в подрыве доверия к ценностям, завещанным эпохой Просвещения, и в распаде опиравшихся на них представлений об обществе. Он заставил усомниться в основах демократического общественного устройства и обусловил глубокий кризис демократии, переживаемый современным западным обществом. Цивилизационный кризис, современниками которого мы являемся, вызывает радикальные перемены в жизни европейского общества. Отметим лишь некоторые из них, проявляющиеся в политике ведущих мировых держав.
Недавно бывший генеральный канцлер Германии Шредер принял предложение российских властей стать председателем собрания акционеров в дочерней компании российского "Газпрома". Случай беспрецедентный не только в истории Германии, но и в истории западной демократии. О чем говорит этот потрясающий факт? О вовлечении в российскую коррупцию наших неиспорченных западных соседей, как комментировали его многие обозреватели? Отнюдь не только об этом. "Казус Шредера" показывает направление изменений принципов международной политики, новый курс на утверждение субъективности как ее принципа, когда интересы отдельных личностей - и их личных кланов - начинают значить и весить гораздо больше, чем политические интересы представляемых ими держав. Он вписывается в новую логику доминирования ситуативного, личного, индивидуального выбора, которому больше не способны эффективно сопротивляться институты демократического общества - многопартийная система, деятельность оппозиции, борьба правых и левых, политический кодекс чести и т.д. Ибо, как давно замечено, власть больше не ходит этими тропами, делая ненужными и безжизненными сами понятия. Политика, которую проводят и предлагают обществу Буш в США, Ширак во Франции, Путин в России, - это не правая политика уже хотя бы потому, что она не противостоит организованной и мощной левой политике.
Важно подчеркнуть, что политические решения по обе стороны Атлантики больше не исходят из партийной идеологии, которая перестала быть как сдерживающим, так и вдохновляющим источником политики. Говоря об упадке идеологии, я имею в виду не только и не столько обессмысливание партийных программ об общественном благе, которым руководствовались (или должны были говорить, что руководствуются) политические лидеры при принятии своих решений. Речь идет об отсутствии потребности у избирателей верить в ее необходимость и разделять с политическим классом видение того, каким должно быть общество. То, что раньше преподносилось в качестве коллективной воли, теперь все больше приобретает статус сугубо индивидуального, субъективного видения будущего общества.
В социальной сфере этот кризис выражается в росте среды (которую называют то "молодежной средой", то по именам различных движений), нормы поведения которой постоянно входят в прямой конфликт с декларируемым консенсусом о порядке, законности, морали демократического общества и с которой тем не менее блюстителям закона не удается ничего поделать - даже представить "ненормальность" ее "асоциального" поведения как достойную осуждения в глазах общественного мнения.
В интеллектуальной сфере кризис проявляется не только в отсутствии глобальных моделей, объясняющих развитие общества. Распад системы понятий, в которых описывалось европейское общество на протяжении последних трех веков, оборачивается кризисом научной рациональности, распадом идентичности интеллектуала и общим кризисом социальных наук, являвшихся на протяжении ХХ столетия идеологией демократии.
Опыт концентрационной вселенной лишил европейскую демократию ее идеальных оснований и поставил общество на грань драматических перемен. Вполне возможно, что единственный способ сопротивляться пагубным мутациям - научиться распознавать их концентрационную природу. Контуры перемен еще трудно определить и невозможно оценить однозначно, однако очевидно, что они затронут и Россию. Несомненно, что отсутствие морального опыта "проработки" советского прошлого, ставшего самым длительным опытом народовластия в этой стране, делает ее наиболее податливой к тем изменениям, которые подрывают основы традиционного гуманизма и заставляют гротескно проявляться в ней те черты, которые будут меньше заметны - или не проявятся вовсе - в других контекстах.
"Готическое общество" - так можно назвать один из сценариев, готовых осуществиться в российской действительности. Не стремясь нарисовать портрет общества, которого еще нет и которое, хочется надеется, не сложится, укажем на некоторые тенденции, которые проступают в российской повседневности наиболее отчетливо.
Важнейшая из них - это все более решительное превращение "зоны" в основу российского общежития. Российский пример, к сожалению, незнакомый Дж.Агамбену, позволяет нам на каждом шагу, а не только в аэропортах и городских окраинах обнаруживать воспроизводство правил зоны в организации общества. Речь идет не только о постепенном превращении тюремного сленга, оказавшего неизгладимое влияние на повседневный русский, в язык власти, и не только о стремительной конвергенции мафии и государственных структур, и даже не о беспредельной коррупции. Речь идет о формах социальной организации, складывающихся в согласии с правилами организации криминальной среды.
Приспособление к "правилам игры" - эвфемизм для обозначения бандитизма, распространившийся в русском языке в конце 80-х - начале 90-х гг., - означает, прежде всего, самоорганизацию социальной ткани в разных сферах жизни общества, от жилконторы до нефтяных концернов в кланы. Личная зависимость и преданность "пахану", который становится гораздо более эффективной гарантией защиты личных прав и свобод, чем конституция или давно включившиеся в эту систему органы "правопорядка", является единственным "принципом подбора кадров". Опора - в разных формах - на вооруженные формирования, стремление к наследственной передаче постов и профессий, отношение к институциям как к формам "кормлений", вытеснение формальных требований к выполнению определенных функций "близостью к телу", стремление свести описание должности к портрету ее обладателя - таковы лишь некоторые признаки готического общества. Следствием такой социальной организации становится испарение политики как формы существования публичного пространства и полная подмена ее личными отношениями между главарями: начальниками отраслей промышленности, предприятий, учреждений культуры. Ее другое очевидное следствие - стремительное вытеснение понятия эффективности производства понятием эффективности личного обогащения. Интересный вопрос - останется ли готическое общество обществом массового производства и потребления?
Понятие традиции абсолютно неприменимо к готическому обществу, поскольку все его практики носят сугубо индивидуалистический характер. Отказ от традиции и отрицание традиции, - как и культуры в целом, - опирается на способ выдвижения - личная лояльность, отсутствие обязательных компетенций для занятия лидирующей позиции, случайность обстоятельств, ведущих "наверх". Случайность как категория, отрицающая как идею "законности", так и "честной конкуренции", выступает важным принципом организации готического общества.
В политической сфере готическое общество обнаруживает себя в нищете публичной политики, в безлюдности публичного пространства, поскольку все значимые политические решения, которые пока еще санкционируются публичными жестами разного рода "коллективных органов", сообщениями в "прирученных" средствах массовой информации, являются результатом личного компромисса глав кланов.
Распад публичного пространства сочетается с культом насилия в области эстетики и полным отсутствием консенсуса по поводу морали. В России кризис моральных норм оказался тем более силен, чем более радикально в ходе перестройки была скомпрометирована ханжеская мораль "советского человека". Крах советского режима повлек за собой острое ощущение "морального вакуума", которое в значительной степени сохраняется и сегодня. В предшествующие эпохи, скажем в феодальном обществе, широкий консенсус по поводу морали складывался на основе религии. Утрата церковью своих позиций морального арбитра в обществе, которую не в состоянии компенсировать никакой религиозный псевдоренессанс, не позволяет православию претендовать на то, чтобы снова лечь в основу общественной морали. Поэтому в готическом обществе мораль становится ситуативной: суть запретов и степень дозволенного полностью определяется вкусами глав отдельных кланов, ни к чему не обязывая соседей. На смену универсальной морали приходит мораль как конкретная практика, применяемая здесь и сейчас, но именно в силу этого не нуждающаяся в описании в абстрактных и универсальных понятиях. Это вовсе не "замена одной универсальной модели морали на другую", "ханжеской советской морали" на "жесткие, но трезвые понятия" бандитской этики. Напротив, исчезновение единой системы референций, разделяемой обществом в целом, ведет к замене абстрактных представлений на пристрастия конкретных лиц. Согласие, достигаемое по поводу возникающих конфликтов между этими представлениями, тоже остается ситуативным, конкретным и личным и поэтому все чаще обосновывается как реакция на личную "обиду" или на признание "личных заслуг".
Готическое общество создает не просто альтернативную демократии среду - оно приобретает и подчиняет себе все то, что демократия утрачивает. Готическое общество питается мертворожденным телом российской демократии, появившейся на свет слишком поздно, чтобы успеть противопоставить себя советскому народовластию.
Несмотря на глубоко субъективный характер своих практик, готическое общество не испытывает никакого уважения к личности, индивидуальности, приватности и прямо противоречит идее прав человека. Готическое общество, кошмар наследия концентрационной вселенной, рвется реализовать себя в России, выдавая зону за самую непосредственную, прямую и простую форму социальной самоорганизации в кризисных ситуациях, - племя, у которого нет и которому не нужны мораль, история, культура...
И хотя очевидно, что мы покидаем мир, в котором существовало понятие убежища - политического, морального, идеального, что процессы, о которых идет речь, далеко превосходят локальный российский масштаб, столь же очевидно, что в Европе традиция, которая может сопротивляться готическому сценарию, гораздо прочнее. Трагическое европейское прошлое стало предметом переживания и осмысления, глубоко затронувшим сознание граждан европейских стран. Осуждение преступлений создало основу морального консенсуса, предписывающего разделять хотя бы некоторые базовые ценности европейского гуманизма. Полное отсутствие в России иммунитета к законам зоны, проистекающее зачастую от неспособности разграничить зону и общество в силу их многолетней неразведенности на практике, нежелание задуматься о своей концентрационной истории делает эту страну особенно уязвимой для разрастания - пока в экспериментальных условиях - готического общества.
Поэтому нет необходимости в морализаторстве: мол, нехорошо, когда места мученической гибели миллионов людей, наших соотечественников, становятся пастбищами, дачными кооперативами, заброшенными пустошами, а потомки, причмокивая, наперебой превозносят прелести отечественной истории ХХ века.
"Мертвые хватают живых, и в итоге мы имеем то, что имеем".