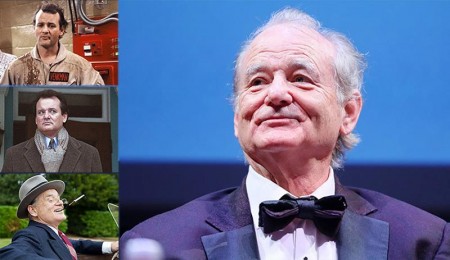Алексей Остудин: речь, как река, имеет свойство самоочищаться
Казанскому поэту Алексею Остудину чужд пафос и в творчестве, и в жизни. Говоря о себе, он старается избегать громких слов, а в стихах одновременно лиричен и ироничен.

Поэзия его немного хулиганская, как говорят критики, «плоть от плоти язык народа». Может быть, поэтому Алексею Остудину так приглянулся Иркутск с его деревянными домами и непричесанными подворотнями.
– Чем вас так впечатлило наше деревянное зодчество?
– Точно такие же дома раньше были и в Казани. Но у нас за последние 15 лет, в рамках подготовки к празднованию тысячелетия города, весь деревянный центр снесли и на его месте построили, может быть, и красивые с современной точки зрения, но какие-то бездушные дома. Город лишился своих дворов с бельевыми веревками, котами на солнцепеке, колченогими столами, где мужики по выходным играли в карты и домино. Казань стала европейской, чистой. Но потеряла свою душу. А мне все еще хочется жить в городе своей юности. Поэтому, когда я в Иркутске увидел эти дворики, садики, общественные туалеты с неприличными надписями, то очень обрадовался и даже постарался все это запечатлеть на видео.
– И вы считаете, что все эти «общественные туалеты» нужно сохранять?
– Но ведь не это главное! Есть прекрасные деревянные дома с резьбой и старинными коваными деталями, все это – носители истории. Такие памятники, как машина времени: ты можешь закрыть глаза и оказаться в XIX веке. Их обязательно надо сохранять. Это безумно тяжело делать, но вам нужно отстаивать свою историю и постепенно реставрировать. Да ведь это просто очень красиво! Не совершайте таких ошибок, как в Казани.
Кстати, забавно, что тысячелетие нашего города отмечалось под эгидой ЮНЕСКО, правительство выиграло какой-то грант, при условии, что обязуется не сносить памятники. Эксперты ЮНЕСКО даже штампы свои поставили на некоторых каменных зданиях, а их все равно уничтожили. Сейчас собираются снести последний дом, в котором когда-то жил первый ректор Казанского университета, и у него останавливался Александр Пушкин. Такая история, а дом уже на кирпичи начали растаскивать. Но что поделаешь, у нас наступила эпоха маргиналов. Человек не успевает родиться, а его мозги уже забивают через телевизор какой-то американизированной кашей.
– Вы первый раз приехали на Байкальский фестиваль поэзии, чем он вас привлек?
– Мне про него рассказывали друзья Равиль Бухараев и Виталий Куглановский, и я был в курсе, что фестиваль замечательный, отзывы были потрясающие. Плюс еще в начале года Виктор Куллэ мне сказал: «Алексей, ты обязательно должен попасть на Байкал». Он даже созвонился с организатором фестиваля Игорем Дроновым и договорился обо мне. Так что я с большим удовольствием сюда приехал и не удивился, когда увидел знакомые лица.
– Какие у вас впечатления от встречи с иркутскими любителями поэзии?
– Слушателей, конечно, не очень много, мы же не певцы. Но зато они надежные – видно осмысленные глаза. Эти люди не равнодушны к поэзии, они не просто слушают, но и пытаются что-то узнать и где-то даже поспорить с тобой. Сразу видно, что они не адепты телевизионного ящика, а начитанные культурные люди. В основном, конечно, зрелого возраста, но, я думаю, это связано с тем, что сейчас лето. Иркутск, как и Казань, студенческий город, и молодежь на каникулах.
– Вы ведь тоже проводите фестиваль поэзии в Казани, расскажите о нем.
– Свой фестиваль я начал делать на год позже вашего – в 2002-м. Сначала назывался он «Казанские тропы поэзии», но со временем имя упростилось до просто фестиваля поэзии в Казани. В первый год ко мне приехали москвичи: Андрей Коровин, Никита Новиков, Гандлевский, Лев Рубинштейн и другие. Потом пришлось фестиваль раздробить на несколько этапов, потому что в мае стало проводиться много поэтических форумов: минский «Порядок слов», «Киевские лавры» и т. д., возникла проблема собирать народ.
Теперь мы проводим фестиваль в три-четыре этапа, в формате встреч с читателями. В основном мероприятия проходят в музее Максима Горького, где помимо прекрасных залов есть кафе «Бродячая собака» в стиле модерн. Там практически нет кухни, но есть столы, можно попить чай, кофе и пообщаться. Сначала в музее выступают гости, потом в кафе читают стихи казанские поэты.
– В этом году темой Байкальского фестиваля был поиск нового поэтического языка. Что вы по этому поводу думаете?
– По этому поводу мне приходит в голову такая метафора: течет великая река Волга, на которой от истока до впадения в Каспийское море стоит больше десятка крупных городов. И так как мы ничего лучшего не придумали, как сбрасывать отходы в реку, то, казалось бы, Волга давно должна была превратиться в клоаку. Но этого не происходит, химики говорят, что вода в норме. Оказывается, у воды есть свойство самоочищаться, когда она находится в движении. Речное течение эту грязь выдавливает вниз, где ее перерабатывают микроорганизмы. Сколько гадости попадает в Волгу, а в ее устье, тем не менее, водится осетр, который в грязной воде не живет. Так же и язык…
Я сам получил филологическое образование. Когда я учился в Казанском государственном университете и мы изучали литературу XVIII века, было видно влияние на русский язык немецкого, и тогдашние литераторы били в колокола: давайте что-нибудь делать, иначе скоро мы будем разговаривать на ломаном немецком. Но этого не случилось. А буквально через полвека произошло «офранцуживание» языка, и все переживали уже по этому поводу, и Пушкин в том числе. Но катастрофы снова не случилось. Зато сколько в нашем языке появилось замечательных слов, он от этого только обогатился.
Сейчас наступило время влияния английского языка, причем оно началось задолго до перестройки. В 1960–1970-х годах в страну проникли английские группы и вместе с ними целые субкультуры. Я помню, в школе мы слушали Beatles и учили английский язык по их песням, а наша учительница страшно переживала – откуда у нас такой жуткий ливерпульский акцент?
Поэтому я, в отличие от многих, спокойно отношусь к сегодняшней ситуации и думаю, что все пройдет. Шелуха уйдет, а ценный остаток обогатит русский язык.
– Как вы пришли в поэзию?
– Я начал писать лет в шесть, не задумываясь об этом, просто рифмовал слова и рифмовал. А сознательно стал сочинять стихи, наверное, лет в 14, когда пришла первая любовь. От любви вообще все начинают писать, большинство потом прекращают, а кто-то остается.
Я, кстати, учился в физико-математической школе. Но когда ее окончил, решил, что это не моя стезя и послал стихи в Литературный институт. Прошел творческий конкурс, но не поступил, потому что был пойман на пьянстве еще на «абитуре», когда строгая комиссия, в составе которой, кстати, был Роберт Рождественский, прогуливалась по общежитию. Потом приехал в Литинститут в1980 году, поступил, а через полтора года вылетел. Но все равно задел был, мне уже понравилось общаться с пишущими людьми, с такими же, как я, дураками и клоунами. Естественно, пошел учиться на филфак Казанского госуниверситета, параллельно работал в газете «Комсомольская Татария», потом поступил на высшие литературные курсы. Затем одна моя книга вышла в Казани, другая – «Шалаш в раю» – в Москве. Сейчас у меня их пять.
– Вернемся к языку. Ваши стихи насыщены современными словами…
– А зачем я буду себя ломать и вставать в позу, как памятник? Если я так говорю, и это язык окружающих меня людей, почему мне надо писать как-то иначе? Отчасти я согласен с Максимом Амелиным, который считает, что поэтический язык – это отдельный язык. Наверное. Но, как и любой язык, он подвержен влиянию извне.
Для поэта слово – это инструмент и материал. Ты ловишь ритм и начинаешь работать мазками. Поэтому мои стихи сложны, я могу их делать проще, но не хочу, ведь я пишу, прежде всего, для себя. И вот из этих мазков-слов складывается картина. Неужели художник, если он положил, допустим, на масло темперу, будет ее потом отскабливать с полотна? Так же, если какое-то слово из разговорной речи проскочило и органично вошло в стихотворение, зачем мне его убирать? На самом деле, у меня нет цели насытить поэзию какими-то дикими нехорошими словами. Но мы пишем так, как живем.
_04131713_b.jpg)